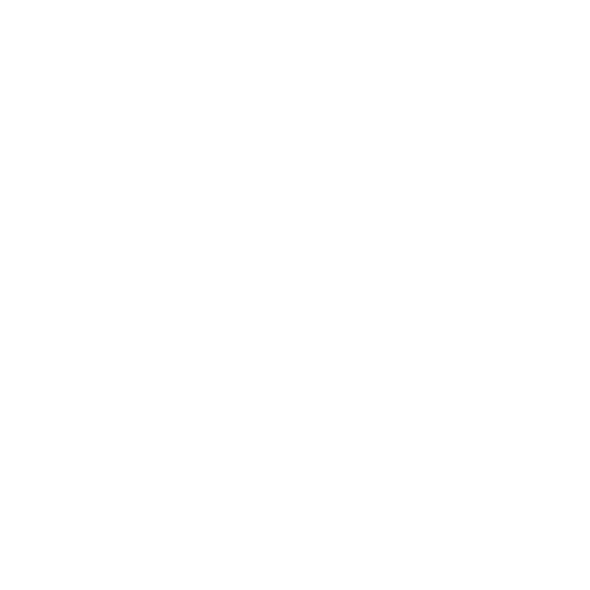Альманах «Точки сопричастности»
Год издания: 2022
ISBN: 978-5-6044148-2-8
ТОЧКИ СОПРИЧАСТНОСТИ. Современный рассказ. Семинар А.В.Воронцова – М.: «НОВОЕ СЛОВО», 2022 г.
186 стр. ISBN 978-5-6048238-0-4
АННОТАЦИЯ К СБОРНИКУ «ТОЧКИ СОПРИЧАСТНОСТИ» (2022 г.)
Работа над составлением сборника сродни созданию мозаичного узора из кусочков смальты или, говоря по-нынешнему, картинки из разрозненных пазлов. Я никогда не составлял мозаик и не складывал пазлов, но понимаю, что здесь не кусочек к кусочку прилепляется для постепенного возникновения единой картины, − напротив, уже существующий образ этой картины управляет манипуляциями с кусочками. Так, и составляя очередной сборник «Точек», я ищу в предлагаемых рассказах единую картину мира. Это, я вам скажу, даже увлекательно. Ведь авторы, при всей их непохожести, не сговариваясь, являются элементами общего состояния мира на момент создания сборника. Даже, если каждый из этих элементов – разрушителен. Просто тогда в целом получится не гармония, а «управляемый хаос», который, по сути, есть гармония наоборот. Картина хаоса тоже требует нужного пазла в нужном месте, не правда ли?
Работа над составлением сборника сродни созданию мозаичного узора из кусочков смальты или, говоря по-нынешнему, картинки из разрозненных пазлов. Я никогда не составлял мозаик и не складывал пазлов, но понимаю, что здесь не кусочек к кусочку прилепляется для постепенного возникновения единой картины, − напротив, уже существующий образ этой картины управляет манипуляциями с кусочками. Так, и составляя очередной сборник «Точек», я ищу в предлагаемых рассказах единую картину мира. Это, я вам скажу, даже увлекательно. Ведь авторы, при всей их непохожести, не сговариваясь, являются элементами общего состояния мира на момент создания сборника. Даже, если каждый из этих элементов – разрушителен. Просто тогда в целом получится не гармония, а «управляемый хаос», который, по сути, есть гармония наоборот. Картина хаоса тоже требует нужного пазла в нужном месте, не правда ли?
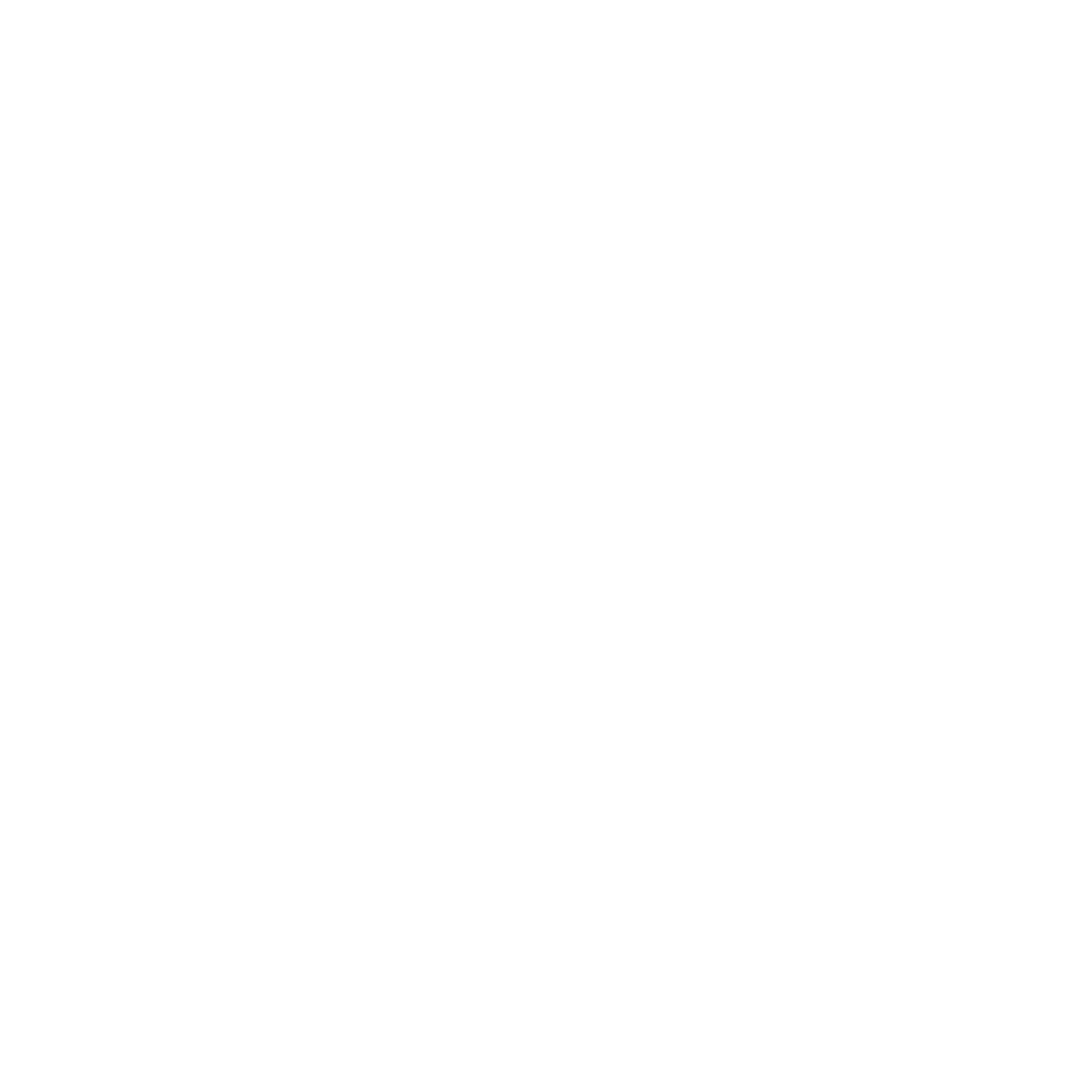
Когда на крутых виражах истории у нас уходит из-под ног наша земля, мы просыпаемся, обретаем снова человеческое и национальное достоинство. Видимо, вопреки мнению Столыпина, нам нужна не только великая Россия, но и великие потрясения. В потрясениях мы снова обретаем себя и страну. Писатели – барометры грядущих тектонических сдвигов. Им-то и надо проснуться раньше других. Чтобы крикнуть остальным: «Подъем!» Не то вас разбудят уже трубы Страшного Суда.
Эта литературная архитектура напрямую связана с названием каждого сборника «Точек». Они не просто «Точки» чего-то, выбранного ради красного словца. Нет, речь идет о слове, вбирающем в себя представление об общем рисунке, который угадывается в рассыпанной горсти кусочков мозаики. Сегодня – это слово «сопричастность». Герои рассказов всех 20 авторов «Точек»-10 как бы стоят на грани, с одной стороны которой начертано «Мене, текел, фарес»: «Каждый сам за себя», а с другой − цитата из Хемингуэя: «Человек один не может ни черта». И, сколько ни говори, что люди сбиваются в сообщества из-за стадного инстинкта, есть вещи похуже, чем стадо, − например, мир, где каждый умирает в одиночку. Да что смерть? Она, как ни крути, есть венец жизни. А жизнь напрочь обособленных индивидуумов бедна любовью, − той самой, о которой апостолом Павлом сказано: «Любовь николи не проходит». В общем, не знаю, как там с проблемой существования в стаде, а без чувства сопричастности друг другу мы не выживем. Мы не просто перестанем ощущать плечо ближнего, но и почву под ногами.
Помните, у Мандельштама: «Мы живем, под собою не чуя страны»? Ничего позади, ничего впереди, пусто вверху и внизу. Только стремительный полет (или падение) неведомо куда. Дурная бесконечность, по Гегелю. Однажды мне довелось испытать нечто подобное на скоростном корабле. Это было в начале 1990-х годов, когда я возвращался с Соловков. Норвежцы за право вылавливать нашу семгу в устье Северной Двины передали архангельским властям высокоскоростной катамаран на воздушной подушке. Вместительный, как аэробус, он предназначался, однако, для морских прогулок по скандинавским фьордам, то есть по внутренним акваториям. Наши же стали его использовать на дальнем маршруте Архангельск – Соловки. Катамаран этот, в сущности, не плывет, а летит, срезая гребни волн. Моря под собой вы не чувствуете – только пустоту и нарастающую дурноту под ложечкой, как при попадании в «воздушную яму» в самолете.
Я перекусывал за буфетным столиком, когда корабль плавно, как пассажирский поезд, отвалил от причала. Прощайте, Соловки! Я пригнулся к иллюминатору, чтобы кинуть последний взгляд на монастырские купола. Массивная крепость, отраженная в играющих солнечными бликами водах залива, казалась легкой, даже игрушечной. Катамаран быстро и бесшумно набирал ход. Я еще допивал пиво, когда вдруг почувствовал, что завис в воздухе. Пол уплыл от меня и столик тоже. Буфетная стойка сильно ударила меня по спине. Барменша спешно убирала напитки и бутерброды. Она едва увернулась от ящика с пустыми бутылками, который, как торпеда, просвистел мимо нее по линолеуму и со страшным звоном влетел в открытую дверь подсобки, где, очевидно, врезался в другие бутылки. Дверь сама собой захлопнулась, точно в избушке Бабы-Яги. Балансируя, я поспешил добраться до своего кресла. В иллюминаторы уже ничего не было видно, кроме ходящей вверх-вниз стены зеленоватой воды. В открытом море бушевал нешуточный шторм. Лица у пассажиров сразу позеленели, они судорожно доставали спецпакеты. Сладковато-приторный запашок рвоты поплыл в кондиционированном воздухе.
Заработали огромные телеэкраны под потолком, которые стали венцом этого «захватывающего» путешествия в пустоте без смысла, времени и пространства. То ли фильмы были записаны на бытовавших тогда девяностоминутных видеокассетах, то ли по какой еще причине, но все они обрывались посредине, без продолжения, а иностранные были, к тому же, без русского перевода, зато с синхронным немецким и почему-то финским. Они вызывали такую же тошноту, как и этот полет над Белым морем в гегелеву бесконечность.
Меня тогда поразило ощущение собственной ничтожности в этом зеленоватом, комфортабельном вакууме. Никогда прежде – ни в самолете, ни на обычном корабле – я ничего подобного не испытывал. Я был не человеком, а игрушкой волн в хорошо упакованной железной коробке. Ничего от меня не зависело: я не мог ни остановить судно, ни даже выключить фильмы, точно снящиеся в бреду. Я был заложником движения, скорости, вот и все. «Это и есть, наверное, смерть», – мелькнуло у меня в голове.
Не буду пересказывать свои магеллановы ощущения, когда в Архангельске снова почувствовал под ногами твердую землю. Это было так, словно душа вернулась в тело. Были уже поздние сумерки, горели красные причальные огни, навстречу шли люди с нормальными, не зелеными лицами. Около ресторана морского вокзала мы услышали, как немного подвыпившая светловолосая девушка гневно выговаривала своему парню: «Как ты мог? Как ты мог?» «Да что я сделал?» – неуверенно защищался тот. «Как ты мог уйти, ведь он назвал тебя козлом?!» («Козлом» – нажимая на «о»). Я засмеялся. Под ногами была настоящая земля, все стало на свои места. Это не Москва, где твоя девушка на «козла» даже внимания не обратит, а если обратит, то скорее предпочтет уйти, – это еще крепкий Русский Север, где у женщин сохранились нормальные представления о достоинстве своих мужчин. «Как вы могли допустить, чтобы вас называли козлами?»
Помните, у Мандельштама: «Мы живем, под собою не чуя страны»? Ничего позади, ничего впереди, пусто вверху и внизу. Только стремительный полет (или падение) неведомо куда. Дурная бесконечность, по Гегелю. Однажды мне довелось испытать нечто подобное на скоростном корабле. Это было в начале 1990-х годов, когда я возвращался с Соловков. Норвежцы за право вылавливать нашу семгу в устье Северной Двины передали архангельским властям высокоскоростной катамаран на воздушной подушке. Вместительный, как аэробус, он предназначался, однако, для морских прогулок по скандинавским фьордам, то есть по внутренним акваториям. Наши же стали его использовать на дальнем маршруте Архангельск – Соловки. Катамаран этот, в сущности, не плывет, а летит, срезая гребни волн. Моря под собой вы не чувствуете – только пустоту и нарастающую дурноту под ложечкой, как при попадании в «воздушную яму» в самолете.
Я перекусывал за буфетным столиком, когда корабль плавно, как пассажирский поезд, отвалил от причала. Прощайте, Соловки! Я пригнулся к иллюминатору, чтобы кинуть последний взгляд на монастырские купола. Массивная крепость, отраженная в играющих солнечными бликами водах залива, казалась легкой, даже игрушечной. Катамаран быстро и бесшумно набирал ход. Я еще допивал пиво, когда вдруг почувствовал, что завис в воздухе. Пол уплыл от меня и столик тоже. Буфетная стойка сильно ударила меня по спине. Барменша спешно убирала напитки и бутерброды. Она едва увернулась от ящика с пустыми бутылками, который, как торпеда, просвистел мимо нее по линолеуму и со страшным звоном влетел в открытую дверь подсобки, где, очевидно, врезался в другие бутылки. Дверь сама собой захлопнулась, точно в избушке Бабы-Яги. Балансируя, я поспешил добраться до своего кресла. В иллюминаторы уже ничего не было видно, кроме ходящей вверх-вниз стены зеленоватой воды. В открытом море бушевал нешуточный шторм. Лица у пассажиров сразу позеленели, они судорожно доставали спецпакеты. Сладковато-приторный запашок рвоты поплыл в кондиционированном воздухе.
Заработали огромные телеэкраны под потолком, которые стали венцом этого «захватывающего» путешествия в пустоте без смысла, времени и пространства. То ли фильмы были записаны на бытовавших тогда девяностоминутных видеокассетах, то ли по какой еще причине, но все они обрывались посредине, без продолжения, а иностранные были, к тому же, без русского перевода, зато с синхронным немецким и почему-то финским. Они вызывали такую же тошноту, как и этот полет над Белым морем в гегелеву бесконечность.
Меня тогда поразило ощущение собственной ничтожности в этом зеленоватом, комфортабельном вакууме. Никогда прежде – ни в самолете, ни на обычном корабле – я ничего подобного не испытывал. Я был не человеком, а игрушкой волн в хорошо упакованной железной коробке. Ничего от меня не зависело: я не мог ни остановить судно, ни даже выключить фильмы, точно снящиеся в бреду. Я был заложником движения, скорости, вот и все. «Это и есть, наверное, смерть», – мелькнуло у меня в голове.
Не буду пересказывать свои магеллановы ощущения, когда в Архангельске снова почувствовал под ногами твердую землю. Это было так, словно душа вернулась в тело. Были уже поздние сумерки, горели красные причальные огни, навстречу шли люди с нормальными, не зелеными лицами. Около ресторана морского вокзала мы услышали, как немного подвыпившая светловолосая девушка гневно выговаривала своему парню: «Как ты мог? Как ты мог?» «Да что я сделал?» – неуверенно защищался тот. «Как ты мог уйти, ведь он назвал тебя козлом?!» («Козлом» – нажимая на «о»). Я засмеялся. Под ногами была настоящая земля, все стало на свои места. Это не Москва, где твоя девушка на «козла» даже внимания не обратит, а если обратит, то скорее предпочтет уйти, – это еще крепкий Русский Север, где у женщин сохранились нормальные представления о достоинстве своих мужчин. «Как вы могли допустить, чтобы вас называли козлами?»
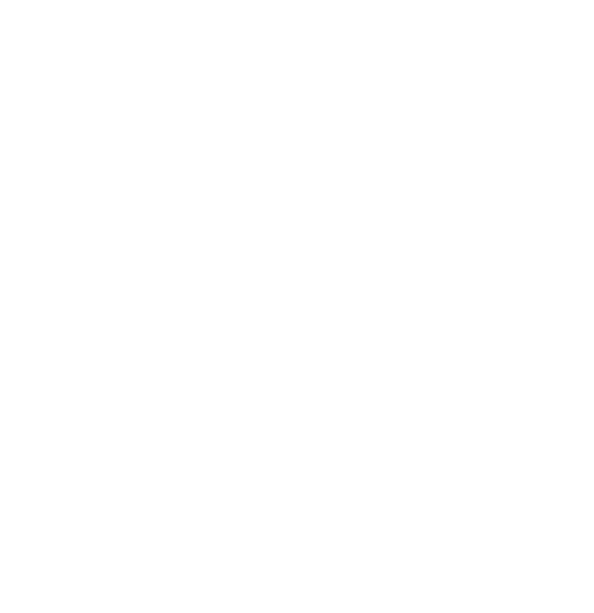
Андрей ВОРОНЦОВ, писатель, руководитель ЛИТО «Точки»,
секретарь Правления Союза писателей России
секретарь Правления Союза писателей России
Конечно, я неизбежно идеализировал Север после недавнего безумного путешествия, но в тот момент я чуял под собой свою землю, свою страну. Она бывает не очень-то и хороша, но в мягкой, чистой, кондиционированной, попахивающей то ли дезодорантом, то ли блевотиной никелированной гегелевой пустоте Запада, куда хуже. Мы упали в глубокую, но не бездонную яму. У нас есть на что опереться, чтобы из нее выбраться. Яма – это еще не пустота.
Когда на крутых виражах истории у нас уходит из-под ног наша земля, мы просыпаемся, обретаем снова человеческое и национальное достоинство. Видимо, вопреки мнению Столыпина, нам нужна не только великая Россия, но и великие потрясения. В потрясениях мы снова обретаем себя и страну. Писатели – барометры грядущих тектонических сдвигов. Им-то и надо проснуться раньше других. Чтобы крикнуть остальным: «Подъем!» Не то вас разбудят уже трубы Страшного Суда.
Пусть наши лучшие черты никак не складываются в цельную картину, но не нужно забывать, что этот рисунок только задуман Богом, а выводит линии наша рука.
Итак, вот эти линии, этот рисунок – «Точки сопричастности», десятый, юбилейный сборник. 20 авторов, большинство из которых хорошо известны читателям «Точек», не буду даже их перечислять. Но дебютантов традиционно назову: Александр Анохин, Ольга Гоголева, Наталья Зеленина, Константин Колунов, Сергей Овчинников. Рассказы, как всегда, разбиты по тематическим разделам, на этот раз их четыре: «Прекрасное далеко» − по названию рассказа А. Анохина, «Дверь» − О. Гоголевой, «Другой мотив» − О. Борисовой, «Прелесть» − Н. Кроминой.
К сожалению, и этот год не прошел для нас без потерь. Пока готовился сборник, ушли из жизни наш постоянный автор Игорь Чичилин (ему было всего 55 лет) и Виктор Славянин (Слинько), который никогда не печатался в «Точках», но был старожилом и завсегдатаем нашего ЛИТО.
Читатели сами сделают вывод, сложился ли из произведений авторов «Точек»-10 узор сопричастности. Или только складывается? В сущности, разницы нет: искусство не есть что-то законченное, это нечто, всегда находящееся в пути.
Когда на крутых виражах истории у нас уходит из-под ног наша земля, мы просыпаемся, обретаем снова человеческое и национальное достоинство. Видимо, вопреки мнению Столыпина, нам нужна не только великая Россия, но и великие потрясения. В потрясениях мы снова обретаем себя и страну. Писатели – барометры грядущих тектонических сдвигов. Им-то и надо проснуться раньше других. Чтобы крикнуть остальным: «Подъем!» Не то вас разбудят уже трубы Страшного Суда.
Пусть наши лучшие черты никак не складываются в цельную картину, но не нужно забывать, что этот рисунок только задуман Богом, а выводит линии наша рука.
Итак, вот эти линии, этот рисунок – «Точки сопричастности», десятый, юбилейный сборник. 20 авторов, большинство из которых хорошо известны читателям «Точек», не буду даже их перечислять. Но дебютантов традиционно назову: Александр Анохин, Ольга Гоголева, Наталья Зеленина, Константин Колунов, Сергей Овчинников. Рассказы, как всегда, разбиты по тематическим разделам, на этот раз их четыре: «Прекрасное далеко» − по названию рассказа А. Анохина, «Дверь» − О. Гоголевой, «Другой мотив» − О. Борисовой, «Прелесть» − Н. Кроминой.
К сожалению, и этот год не прошел для нас без потерь. Пока готовился сборник, ушли из жизни наш постоянный автор Игорь Чичилин (ему было всего 55 лет) и Виктор Славянин (Слинько), который никогда не печатался в «Точках», но был старожилом и завсегдатаем нашего ЛИТО.
Читатели сами сделают вывод, сложился ли из произведений авторов «Точек»-10 узор сопричастности. Или только складывается? В сущности, разницы нет: искусство не есть что-то законченное, это нечто, всегда находящееся в пути.
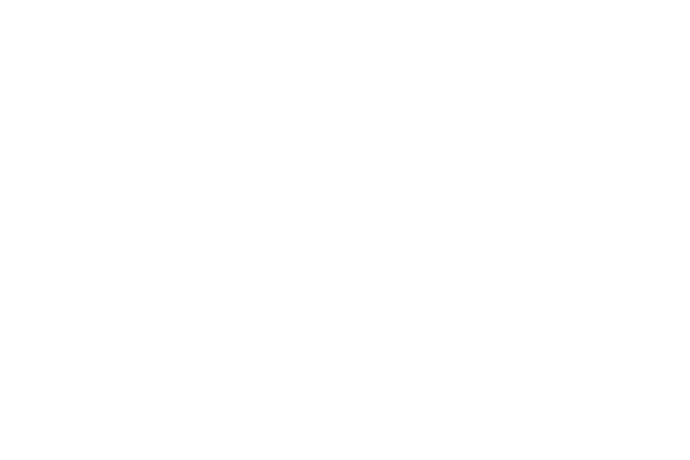
Страница литературного объединения «Точки» в сети
https://bookshop.novslovo.ru/litotochki
https://bookshop.novslovo.ru/litotochki